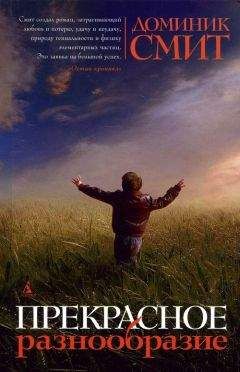Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]
Эх, побыть бы так на людях год, побыть другой, побыть и третий, и все не надоело бы, все не захотелось бы никуда уходить. Но является Салямуте в надвинутом на глаза платке и зовет завтракать, зовет обедать, зовет ужинать. Опять нужно идти в избу, опять сталкиваться с домашними, со стариком.
В доме неладно. Старик вечно лежит, выпятив обрюзгшее лицо, неотрывно глядит на всех, словно уж на яйца, и нет во всем доме такого угла, где бы можно было укрыться от этих глаз. Трудно ворохнуться, не хочется ничего говорить, боязно улыбнуться; шаг ли шагнул, за стол ли присел, все кажется: может, не так, может, старику опять не понравится? Потому все здесь ходят, словно паклей подавившись, говорят полушепотом, как на похоронах, а больше переговариваются руками и глазами. Даже Повилёкас мрачнеет, быстро работает ложкой, спешит выхлебать щи и убежать. А старик глядит, глядит и глядит и молчит как пень. Только позже, когда всем становится невмоготу, скажет:
— Так чего замолчали все? Чего рыла от меня воротите? Или я вам супостат какой, не отец?
— Выдумываешь ты, Пеликсюк, — отзывается старая. — И не воротим, и ничего такого…
— Я детей спрашиваю, не тебя. Растил, холил, теперь никто слова не скажет.
И начнет поедом есть. Повилёкаса за утаенные деньги, Юозёкаса за молчаливость, Казимераса за разговорчивость, жену за поблажки детям…
Наругается, наизмывается, а потом довольно засопит носом и спрашивает всех по порядку:
— Ты чего насупился? Правда глаза колет?
— Не насупился я…
— Вижу, вижу. Когда отец правду не скажет, кто еще скажет? Собака на выгоне скажет?
Не задевает он одну Салямуте. А та как надвинула платок на глаза в тот вечер, когда я приехал, так и не открывает их перед людьми. Вдобавок всегда колючая, чуть что, сейчас фырк-фырк, будто кошка на собаку. И все подлещивается к старику. То свежего рассола зачерпнет ему из кадки, то лепешку помасленей подаст, то запарит льняного семени согреть ноги, то еще что придумает. И все поближе, поближе к старику, постоянно присаживается на кровать, заговаривает, урезонивает сварливого отца, подтыкает, оглаживает, ластится… И я уж впрямь начинаю верить, что Ализас не врал, что золото есть в этом доме, что золото это прикарманит не кто иной, как Салямуте. Досадно и горько, что она, а не мы с Ализасом или хоть бы Повилёкас. Все бы, кажется, сделал, чтобы только она не захватила! Но никак я не нападу на деньги, хотя ищу, едва улучу минутку, и слежу за Салямуте по мере возможности…
Слежу не я один. Все следят. И не за одной Салямуте. Все следят друг за другом, доглядывают один за другим, ловят один другого, но никто никого не поймает. Потому в избе как-то трудно дышать, словно бы воздух прокис или еще что. А золота нигде ни следа.
По утрам, как только начинает светать, старая хозяйка поднимается с постели, покашливая, идет в сени, нашаривает в темноте лестницу и лезет на подволоку. Лезет и на каждой ступеньке приговаривает:
— Дай господи найти — не дай господи не найти. Дай господи найти — не дай господи не найти.
— Тетенька! — кричу я снизу. — Ты это мне говоришь?
Старуха останавливается. В темных сенях слышно, как она пыхтит, отдувается, переводя дыхание:
— Это я, сынок, молитвы… А ты прочел?
И идет дальше. А лестница высокая, пока доберется до подволоки, совсем запыхается старуха, и ее молитва сильно укорачивается:
— Дай господи — не дай господи!..
Врет старуха. Не молитва у нее на уме. Вздумали куры с нашего двора нестись на подволоке. И несутся. Старухе-то все едино, лишь бы не по чужим закоулкам, можно ведь собрать. И она лезла на подволоку каждое утро. А потом стали яйца пропадать из гнезд. Взберется старуха, отдувается, даже за бока держится, а наверху пусто. На другое утро опять то же самое. И курицы, кажется, кудахтали, и петух кричал, а пусто. Покоя лишилась старуха, влезает утром и не знает: найдет что в гнезде или не найдет? Потому и бормочет:
— Дай господи — не дай господи… дай господи — не дай господи…
Кто ворует яйца — неведомо. Может, хорек, а может, и Салямуте. Все воруют. Все следят друг за другом как одержимые, и все воруют. Воруют всё. Первый раз вижу таких хозяев, чтобы тащили в своем же доме. У каждого из них есть свой укромный угол, и каждый старается что-нибудь хапнуть, утянуть в этот угол. Хватают что попало: старое тряпье, железный лом, горшки, веревки, копченые окорока, пустые мешки, деревянные башмаки, круг колбасы, мочку льна, зерно и яйца, обрезки домашнего сукна и холщовое исподнее… Хватают друг у друга на глазах, друг у друга из-под носа. Куда только кто забежит, там словно тает все! Отковал Повилёкас кочергу, собирался насадить на черен, отвернулся обтесать его, а кочерга уж пропала. Проходя сенями, всегда можно было видеть под крышей на перекладине старое седло. Встаем однажды утром, а седла нет. Казимерас кинулся туда-сюда — никто ничего не видел, не слыхал, не знает. Поставила старуха с вечера хлебы, а муку на подмес, насыпанную в короб, оставила в чулане, где жернова. Встала на заре, идет тесто месить, а из короба выбрано, на самом дне малая толика осталась… И все удивляются этому воровству, пожимают плечами, сопят, бранятся, ищут вора в глазах у другого, а вора, понятно, нет. Старуха качает головой:
— Ох, чадушки, чадушки… Откуда вы такие уродились?
— Да из твоего ущелья за сундуком, — прошипела Салямуте, давясь от злости.
Старуха замолчала, потому что в сенях стоит сундук из ее приданого. Большой, окованный железом сундук, расписанный тюльпанами и лилиями. Стоит он отступя от стены, а это ущелье завалено, забито всяким добром. Старуха прикрывает свои сокровища истлевшим веретьем, от которого идет такой дух, что и подойти не хочется. Но пожитки иногда сами вываливаются, и тогда Салямуте кричит:
— Мамаша, ущелье прорвало!
Но у самой Салямуте тоже не всегда ладно. Ее тайник в горнице, под кроватью. Она низко спускает покрывало, скрывая все грехи под кроватью, но не всегда ей это удается. Глядишь, вылез на видное место узел нечесаной шерсти, моток пряжи, кусок пестрядины… И тогда уж старуха бормочет:
— Девью справу свою прибери!
Казимерас отгородил себе досками угол в тележном сарае — устроил не то каморку, не то собачью конуру, с дверью и пробоем, на который навесил чуть не двухпудовый замок. Но ему некогда: все ездит свататься, а вернувшись, только плюется — опять неудача. Потому в его углу пустовато.
У одного Повилёкаса нет своего угла, и он ничего не тащит. Наигрывает молотком, напевает, посмеивается и машет рукой:
— Из дерьма веревки не совьешь!
Сперва я думал, что и Юозёкас не берет. Но вот однажды ночью Казимерас застиг его, когда он тащил из клети большой мешок муки. Кликнул Повилёкаса. Прибежали и разъяренная Салямуте, и старуха. Обступили Юозёкаса:
— Куда понес?
Юозёкас молча сбивал мучную пыль с рукава, глядел на мешок, брошенный на крылечко, и словно бы сам удивлялся такому случаю.
— Куда понес, тебя спрашивают?
— К Дамуле, к Дамуле, куда же нести! — плача, проговорила хозяйка. — Все туда тащит, все туда прет, скоро весь дом через Дамулин подол пропустит.
Братья принялись бить Юозёкаса, однако без всякого вкуса, лениво, нехотя, точно очень уж нелюбимое дело делали. Тот и не оборонялся — стоял, подставив им спину, как лошадь, когда ее чешут. Салямуте глядела-глядела, а потом как вскрикнет, как вцепится Юозёкасу в лохмы, как начнет мотать из стороны в сторону, пронзительно вереща:
— Для кого муку насыпал? Я ткала мешок! Мой мешок!.. Мой!.. Мой!..
Юозёкас терпел до времени, но потом, видать, решил, что довольно. Двинул Салямуте наотмашь, так что она отлетела на середину двора, оттолкнул братьев и вышел молча за ворота.
— Ну, теперь опять просидит у Дамуле три дня, — заохала старуха. — И скотину покормить не дозовешься!
И тут же добавила:
— Только уж отцу не говорите, не приведи бог. Узнает — не допусти, пресвятая дева, — не найдем где и голову приклонить.
Узнал старик или не узнал — трудно сказать. После этой ночи все утро лежал, не шевелясь, подсунув руку под щеку, прищурившись. Иногда седые его усы дергались, и тогда мне казалось, что он преотлично все знает и над всеми насмехается. И от его усмешек все ели против воли, не глядя друг на друга. А под конец старик проговорил:
— Ты, пастушонок, не уходи. Понадобишься мне.
От этих слов все в избе притихли и как-то даже распрямились. Одна Салямуте наклонилась к моему уху, прошипела:
— Только проговорись — живьем растерзаю!..
Из избы она вышла последней. Старик проводил всех взглядом, поманил меня пальцем. Теперь он явно усмехался, и его глаза весело поблескивали из-под приоткрытых век.
— Подойди к двери, отвори, — сказал тихо. — Посильней толкни.
Я с размаху толкнул. Дверь — трах обо что-то твердое по ту сторону. И сразу стонущий голос Салямуте: